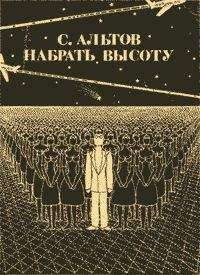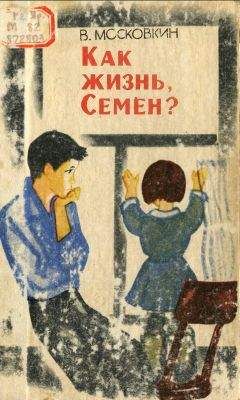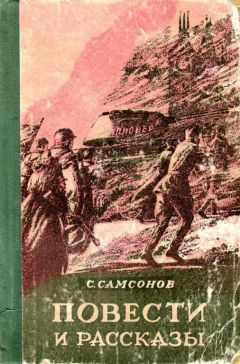Семён Шуртаков - Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]
По горячности и убежденности, с какими говорил Владимира видно было, что все это не сейчас пришло ему в голову, а занимает его уже давно и серьезно. Уж, во всяком случае, гораздо серьезнее, чем мне поначалу показалось.
— А Пушкина и Толстого еще и потому неплохо было сбросить с корабля современности, что при них, рядом с ними всякие там кубофутуристы, конструктивисты и прочие «исты» не больше, чем желторотыми юнгами, салажатами себя бы на том корабле чувствовали. Без них же — сами за Пушкина могли свободно сойти, а значит, можно переть прямо на капитанский мостик и становиться у штурвала…
— О чем это вы так горячо? — Валя кормила и укладывала спать сына, а теперь вернулась к нам.
— Да вот начали об архитектуре, а теперь на стихи перешли, — подзадорил я Владимира. Мне неясно было, к чему он о всяких «истах» заговорил.
— Нет, я не о стихах, а все о том же, — упрямо мотнул Владимир головой. — Про литературу я вспомнил потому, что с ней мы мало-помалу все же разобрались. Мы поняли, что рабочий класс хоть и самый передовой, самый революционный класс, но это еще совсем не значит, что он так вот запросто может выдвинуть из своей среды и самых гениальных писателей. К слову сказать, и вождь революции, как мы знаем, был не из рабочих… Мы поняли, что искусство, литература имеют не только классовую, но еще и национальную основу. А вот архитектуре повезло куда меньше. «Ниспровергатели» чуть ли не до самого последнего времени в каждом храме видели только культовые здания, и ничего больше.
— Но, Володя, не каждая церквушка и памятник архитектуры, — это Валя вмешалась в наш разговор.
Я поддержал ее, вспомнив здешнюю церковку, одним своим видом наводившую тоску. Мне даже захотелось спросить Владимира, уж не будет ли он стоять за нее, но тот опередил меня.
— Согласен: не каждая. Но по мне, пусть бы уцелел десяток-другой ординарных церквушек, лишь бы заодно с ними не были разрушены десятки — да что там десятки, сотни настоящих памятников архитектуры. А ненужные церквушки всегда бы успели пустить на слом.
Легко рассуждать, сидя вот так за чашкой чая!
— Говорят, лес рубят — щепки летят. Ломалась вся жизнь, весь ее старый уклад, и если уничтожили сколько-то церквей или кое-где сожгли барские дома — так это же можно и понять.
— Щепки, говоришь? — Владимир недобро прищурился на меня, будто именно я и был главным виновником того, что «летели щепки». — Да, это можно понять. Но самое-то непонятное в том, что, когда рубили лес, как ты говоришь, не так уж и много тех щепок летело. В одном из воззваний самых первых дней революции было сказано: граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, здания — все это ваша история, ваша гордость… Вот именно: гордость!.. А кто не читал о том, как Ленин в те же первые годы революции сделал выговор заведующему музейным отделом за разбитое окно в одной из кремлевских церквей!.. Щепки полетели куда позже, когда революция не только давно победила, но и утвердилась. И не только там камни тронуты — в одной Москве снесены сотни памятников. Не многовато ли щепок?!
Я сказал, что нельзя во всем этом видеть какой-то злой умысел, что многие здания, имеющие художественную ценность, и храмы в том числе, мы вынуждены были сносить при реконструкции старых городов.
— Иначе по той же Москве давно бы уже нельзя было ни пройти, ни проехать, — поддержала меня Валя.
— Что верно, то верно, но где мера, где грань? — все еще не сдавался Владимир. — Мы снесли Сухаревскую башню, чтобы не мешала движению по Садовому кольцу. Все правильно. А вот Павел Корин так сказал про эту башню: повидал я в Европе всяких башен, а только другой такой не встречал… Что же до предлогов, то их всегда можно найти. Между прочим, если вы помните, тот же самый предлог был выдвинут и для сноса Василия Блаженного: развязать движение автотранспорта по Красной площади. А оно теперь и совсем завязано… Ну, ладно, Василий уцелел. А храм Спасителя? С ним получилось, как со сказочным Китеж-градом — на том месте теперь озеро, или, говоря по-современному, бассейн. А построен этот храм был хоть и при царе, но ведь не царем, а русскими зодчими и мастерами, и расписан первоклассными художниками, Суриковым и Верещагиным в том числе. А если сюда добавить, что построен он был на народные пожертвования и «предлог» для его возведения был достаточно патриотический — ознаменование победы над Наполеоном, — если все это сложить, то получается, что это был не столько храм, сколько памятник искусства и истории.
Владимир нынче, похоже, разошелся. И как-то так получилось, что не только захватил в разговоре инициативу, но и постоянно наступал на меня, а теперь вместе со мной и на Валю. Это было несколько неожиданно: такой тихий, спокойный парень, а смотри-ка… Потому, наверное, я так вяло, так несобранно и оборонялся. А может, тому причиной была еще и Валя. Мне хотелось при ней сказать что-то интересное, оригинальное, чтобы сразу было видно, что на все, о чем идет речь, у меня есть собственное мнение, своя точка зрения. Но — странное дело — именно эта мальчишеская мысль показаться перед Валей в лучшем свете мешала мне сосредоточиться, мешала от обороны перейти к наступлению. Должно быть понимая это и желая меня приободрить, Валя время от времени бросала в мою сторону сочувственные взгляды, но это еще больше смущало меня и окончательно сбивало с толку.
Владимира же разговор наш, как видно, задел за живое, потому что он все так же настойчиво и обстоятельно продолжал развивать свою «тему». Даже, пожалуй, слишком обстоятельно: временами за многословьем я начинал терять нить, сюжет разговора. И вдруг меня поразило одно удивительное совпадение мысли. Прошлой ночью я думал о человеческой памяти. А вот что сейчас сказал Владимир:
— Чем отличался бы человек от мотылька-однодневки, не имей он памяти, не ощущая постоянно свою связь с минувшим грядущим? Но не память ли народа — создаваемое им искусство, архитектура в том числе? И чем короче та память, тем беднее народ, как бы сытно он ни ел и как бы нарядно ни одевался. Мы же все двадцатые, да и тридцатые годы…
— А теперь я тебя перебью, — решил я все же вернуть разговор в первоначальное русло. — Начали мы с дня нынешнего, и даже про завтрашний поминали, а ты все про вчерашний да про вчерашний.
— Ну что ж, про нынешний, так про нынешний, — согласился Владимир, но согласился неохотно; видно было, что он недоволен, что его перебили.
Я попытался как-то разрядить несколько напряженную атмосферу.
Говорят, нашлись веселые ребята в одном таком, как ваш, городе, подпоили приятеля в вокзальном ресторане, потом взяли билет, посадили на поезд и попросили кондуктора высадить в соседнем, тоже новом городе. Парень в том городе очухался, дошел домой, а только «фатеры» своей найти не может: все вроде бы привычное, знакомое — и названия улиц, и сами улицы, и дома, да только позвонил в свою квартиру — открывает, не жена, а какой-то незнакомый мужчина в подтяжках…
Я первый раз видел, как смеялся Владимир — громко, открыто, заразительно: белые зубы его сияли и прижмуренные глаза влажно блестели и тоже словно бы излучали сияние. А еще я заметил, что и Вале очень нравится, как смеется Владимир, и она сама смеялась с удовольствием, смеялась, может, не столь мной сказанному, сколь заражаясь смехом мужа.
— Парень вышел на улицу, еще раз огляделся, нет, все правильно, никакой ошибки, разве что булочная почему-то на другой стороне улицы. Чтобы окончательно убедиться — «Это Красногорск или не Красногорск?»— спрашивает. «Нет, какой же это Красногорск, ты что? — ему отвечают. — Это Синегорск».
Отсмеявшись, Владимир опять посерьезнел.
— Синегорск, Зеленогорск, Углегорск — это еще полбеды, названия можно и другие, поинтересней придумать. А вот что придумать, товарищ архитектор, чтобы эти «горски» не были похожи, как родные братья?
Интересная логика! Сам же вначале взялся отвечать на этот вопрос, а теперь обернул его в мою сторону.
— Первым делом надо, чтобы главный архитектор города при решении вопроса, что, где и как строить, был главнее всех.
— Но это, если исходить из обязательной талантливости главного архитектора. Однако же таланты, как мы хорошо знаем, далеко не на каждом шагу попадаются.
— Так в чем же выход, по-твоему? — Валя меня опередила.
— Вы, конечно, слышали такое слово: особняк. Особняк — значит, особенный, значит, со своей особинкой. И тут мало сказать, что архитектору вменялось в обязанность построить дом, не похожий на другие — в облике дома даже характер мог проявиться, так же как в кресле, на котором сидел Собакевич, и то было что-то от характера хозяина… Нынче же мы строим даже и не дома, а так называемые жилые массивы.
— Ну, ты тоже нашел, что с чем сравнивать, — опять Валя возразила мужу. — Кто особняки-то строил? Купцы, помещики…